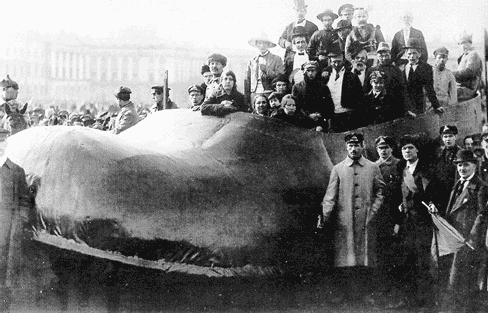
История первая. Соседи
В нашем доме хоронили мужика. Ехал он на машине и разбился. Мужик был как мужик, сосед да и все. Ни с кем в доме особенно не водился, с алкашами у подъезда не сидел, хотя и выпить был, судя по всему, не дурак, — морда красная, здоровался исправно, когда возле лифта встречались. Нормальный был, короче, мужик, такой достойный отстраненный сосед. И тут случилось несчастье.
В тот день, когда его хоронили, около двух часов дня, я выходил из дому по своим делам. Лифт был занят — перевозил родственников погибшего, по лестнице несли неприятно помпезный гроб с израненным покойником. Мне, торопящемуся, пришлось медленно спускаться вслед за ним, вместе с родными и близкими. В лестничный проем было видать, как в гробу сползает вниз мертвое тело, голова в ссадинах и кровоподтеках сползает с подушки. Будто спрятаться от живых страдателей хотел мертвец, заваливаясь вниз и набок. Помню какого-то Витю, или Митю, тоже израненного и совершенно безумного, которого вели под руки за гробом. Он, видимо, попал в аварию вместе с нашим соседом, но насмерть не разбился и никак не мог до конца все осознать: да как же так, ведь мы рядом были, и теперь вот я по-прежнему здесь, а он-то, он уже там. Спускались мы — живые и покойник, очень долго, наконец вышли на улицу, белый снег резанул глаза.
Вход в подъезд обступили со всех сторон соседи, жители дома, те, кому приходилось ранее здороваться с покойным или перекинуться с ним парочкой-другой незначительных фраз о погоде. Весьма, короче, поверхностно знакомые с ним люди. Но надо было видеть их лица! Какая скорбь была на них написана. Совершенно детская, оголенная и беззащитная скорбь. Многие плакали, некоторые рыдали во весь голос. Плакали сиротливо те самые алкаши, о которых я упомянул ранее, плакали толстые тети — матери семейств; и их мужья, стесняясь, роняли слезы, голосили бабушки из соседних подъездов. Оркестр издавал странные звуки, должные означать похоронный марш, гротескно и бессовестно халтуря. Я задержался, вглядываясь в лица плакальщиков. Нет, их скорбь была совершенно искренной. Они безо всякого притворства горевали о человеке, с которым, по большому счету, не были знакомы вообще. Символически они его оплакивали, что ли, как архетип, размышлял я, испорченный интеллигент, удаляясь. Трудно представить себе такую ситуацию в какой-нибудь «цивилизованной» стране, в Англии там или во Франции. Это ведь не принцессу Диану они оплакивали, здесь нечто другое происходило.
Я знаю людей и знаю их черствость и жестокость. Но сочетание черствости с сентиментальностью, так отчетливо проявляющееся именно в наших людях, повергает в смятение. Пожилые дети и юные старцы, такие немилосердные и такие беззащитные. Бьющие друг другу морды до кровавых юшек и рыдающие друг над другом до прозрачных соплей. Помнится, тогда я с ужасом подумал, что ведь это и мои соседи, что и со мною здороваются они у лифта, на улице, возле подъезда, — и случись что со мной, меня они оплачут столь же усердно и рьяно, ибо так надо. Оплачут, чтобы завтра же забыть и продолжать свою неисповедимую, как пути господни, ухабистую и заскорузлую жизнь.
История вторая. Когда я был маленьким
Это, можно сказать, рождественская быль. Незамысловатая, но поучительная история, действительно приключившаяся со мной, когда я был еще очень мал. В сущности, сказал бы великий комбинатор, я был дитя.
«Давай лепить снеговика!» — зимним солнечным утром сказал я мальчику по имени Игорь, с которым играл во дворе нашего дома. «Разрушат», — ответил этот не по годам сообразительный малец. Как видите, он был большим реалистом, чем я; однако генерируемые мной идеи воспринимал уважительно. Поэтому в конечном счете и согласился на заранее проигрышное дело.
Итак, мы принялись за снеговика. Принялись вдохновенно, и к обеду он был уже готов. Замечательный снежный истукан, все как полагается: на башке дырявая кастрюля, вместо носа кочерыжка, в лапе ошметок веника, пожертвованного игоревой бабушкой. Загляденье просто.

Ах, друзья мои, знаком ли вам тот восторг творца, то редкое и счастливое чувство, с которым оглядывает художник свое только что созданное произведение? Мы с Игорем, факт, предались этому восторгу сполна. Жаль только, предаваться ему пришлось недолго: из окна высунулась бабушка Игоря и закричала:
— Игорь, деточка, кушать, а то по жопе получишь.
Договорившись встретиться возле творения рук своих после обеда, мы разошлись. А когда встретились, творения уже не было. Остались от него, что называется, лишь рожки да ножки, кастрюлька да веник в растоптанном снегу. «Я ж говорил, разрушат», — огорченно сказал Игорь. «Построим нового!» — заявил я. — «И будем его охранять». Игорь промолчал; не усталый интеллигентский скепсис, но упрямый пафос неофита был в этом молчании. На том и порешили, в поте лица своего взялись за нового. Отсутствие прежнего вдохновения компенсировалось здоровой боевой озлобленностью. Нате, мол, стоял снеговик, стоит и будет стоять. Врешь, не возьмешь.
Отстроили. Новый снеговик оказался еще больше, чем прежний. «Так держать!» — сказали мы сами себе и приступили к дежурству. Вечерело, становилось все холоднее. И скучнее. Весь запас проклятий в адрес разрушителей мы исчерпали, а ни о чем другом говорить уже не могли. Очень жаль было того, старого, снеговика, первое наше горемычное детище, первый комом блин. Настроение портилось синхронно с заходом солнца. На смену остервенелому созидательному энтузиазму неуклонно подходило гадкое, мерзопакостное осознание того, что и этого рубежа нам не удержать. И когда бабушка Игоря, в очередной раз апеллируя к его жопе, позвала внука домой, мы, вяло посопротивлявшись для проформы, тихо разошлись. В глаза друг другу мы не смотрели, мы знали, какая участь ждет и этого, нового, снеговика. Демагог, я ушел домой вместе с Игорем, не продежурив один и минуты.
К утру с нашим снеговиком было покончено. Я специально вышел на улицу пораньше и не увидел ничего, кроме жалкого снежного холмика. Наше второе произведение уничтожили, видимо, еще вечером. Встретившись с Игорем, мы только сказали друг другу: «Вот козлы!» не обмолвившись более ни словом о неутомимых разрушителях, их-то мы и имели в виду, а не друг друга. Прочие разговоры на больную тему были бессмысленны.
Неделю спустя, вновь играя вместе на улице, мы увидали огромную снежную бабу. Не говоря ни слова, Игорь разбежался и снес ей голову ногой.
История третья. Контролеры шли за ним
В годы всеобщего предательства нельзя не разувериться в людях. Нельзя не разувериться в равнодушном боге; нельзя не разувериться в себе самом, позорно бессильном.
Нельзя не разувериться — и нельзя разувериться. Так поставлен вопрос. Оснований для разумного оптимизма больше нет; значит нужно быть неразумным.
В конце концов, самое главное — пресловутая славянская душа. Она по-прежнему мучительно неисчерпаема и оскорбительно нелепа. Она вопиюще дремуча и убийственно невинна. И даже сейчас, вопреки всеобщей нивелировке и примитивизации, она, душа эта, жива еще. И живо в ней то, что Гейдар Джемаль назвал глубинным евразийским фанатизмом ненависти к системе.
Однажды я ехал в троллейбусе, что само по себе и не ново. На остановке в последнюю дверь зашел, вернее забежал мужик — мужик как мужик, обыкновенный такой потертый дядька, — и прямо, так сказать, с порога он отчаянно и таинственно шептал: «Контролеры идут! Контролеры идут!». Громко вышепетывая страшное свое предупреждение, преданно и пронзительно заглядывая в глаза беспечным пассажирам, бежал он по троллейбусу от последней до первой двери. И точно, зашли контролеры, и едва троллейбус тронулся, начали террор, но только нас, простых пассажиров, они уже не могли застать врасплох — каждый крепко держал в руке благополучно и заблаговременно прокомпостированный талончик, и каждый дышал на другого внезапной солидарностью… Он спаял нас воедино, этот человек. Он тоже прокомпостировал талончик и на следующей остановке вышел. Контролеры шли за ним.

Я часто вспоминаю этот эпизод. Он одновременно безмерно умиляет и безмерно страшит. С одной стороны, эта леденящая душу милая бестолковость означает, что никакая разумная организация у нас
Да не робей за отчизну любезную…
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь не пошлет!
И тогда — будут новые победы, встанут новые бойцы? Поживем — увидим.
Лично Товарищ У